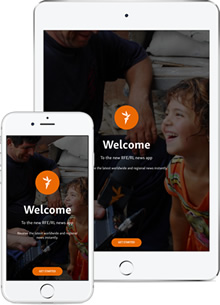Культуролог Михаил Ямпольский считает, что российская культура за последние 30 лет перешла от учительской функции к потребительской. Но именно такое функционирование культуры сегодня создает иллюзию нормальности жизни, помогая людям не замечать войну.
В погоне за интенсивностью
– В вашей книге "Парк культуры", вышедшей еще до нынешней войны, есть одно пророческое наблюдение, которое не потеряло своей актуальности: это сочетание в России почти тотального насилия – и многообразия культурной жизни, своеобразного даже ее расцвета, в основном, конечно, в столицах. Причем во время войны этой культурной жизни, кажется, стало еще больше. Пир во время чумы – как вы для себя объясняете этот феномен?
– Нужно прежде всего задать себе вопрос: что есть культура сегодня? Потому что мы этим словом называем подчас разные вещи. Мы знаем, что культура как автономное явление возникла относительно недавно, вместе с секуляризацией. До этого культура примыкала к церкви или обслуживала князей, монархов, то есть власть, зависела от них, но и содействовала их укреплению. В период секуляризации культура отделилась от церкви, и отчасти от власти – этот процесс также растянулся на несколько веков. И то, что мы сегодня называем культурой, основанной на автономии искусства, сложилось в общем только в XIX веке. Эта культура стала частью рынка – что само по себе невероятно важное событие, которое до сих пор еще в полной мере не осмыслено. Писатели стали жить за счет продаж своих книг на рынке; то же относится и к художникам, которые стали продавать свои картины коллекционерам; впервые такие рыночные отношения в живописи, например, возникали в Голландии, где появились так называемые "малые голландцы", потому что они стали писать не огромные картины, как Рубенс, чьи работы помещаются только во дворцах – а "малые голландцы" рассчитаны на относительно небольшой буржуазный интерьер. В России рынок искусства сложился только накануне революции и сразу же был уничтожен. В XIX веке несалонное русское искусство покупал практически один человек – Третьяков, которые и собрал его почти полностью. Но формат картин вроде "Боярыни Морозовой" отсылает скорее к государственному или княжескому заказчику, нежели к настоящему рынку.
Михаил Ямпольский
Родился в 1949 году в Москве. Закончил романо-германский факультет Московского педагогического института и аспирантуру Академии педагогических наук СССР. С начала 1980-х годов принимал участие в научных мероприятиях Московско-тартуской семиотической школы в Тарту и Кяэрику. В 1991–1993 годах – старший научный сотрудник Института философии РАН (работал в лаборатории постклассических исследований под руководством Валерия Подороги). С 1991 года живёт и работает в США, с 1992 года – профессор Нью-Йоркского университета по отделениям сравнительного литературоведения и русских и славянских исследований. Доктор искусствоведения, профессор. Автор нескольких десятков книг по истории и теории кино, семиотики, истории репрезентации, феноменологии визуального.
…Советская культура была странной смесью. С одной стороны, она являлась продолжением XIX века, в чем-то даже и XVIII-го. С другой – она была клиентом "политической власти" и проводником ее идеологии. Материально она существовала по правилам старой дворцовой культуры, не имея никакой автономии, то есть опоры на рынок и запросы потребителя. Позднесоветская культура несла на себе печать этого абсолютистского симбиоза культуры и политической власти. Собственно, большие идеологии, которые появились также в 19 веке, – это тоже секуляризованная религия. Сначала появляется идеология прогресса, потом – идеи коммунизма, которые ведут нас, собственно, в какое-то светлое будущее, похожее на рай. Всеми этими секуляризованными идеологиями искусство питалось в XIX веке и в первой половине XX-го, хотя институционально оно уже опиралось на рынок. Но постепенно происходил отказ от классических идеологий и все большее погружение в рынок, по своей природе искусству чуждый.
Сегодня в России, не способной сформировать идеологию, почти все в культуре существует на государственные дотации
Этот процесс затронул и СССР, где идеология умирала точно так же, как и в других западных странах. Но в отсутствие рынка искусство все продолжало обслуживать этот полутруп. И даже сегодня в России, не способной сформировать идеологию, почти все, что существует в российской культуре, существует на государственные дотации. Не только музеи и библиотеки, но и театры, кино и даже отчасти книгоиздательство не существуют без государственной поддержки. Хотя, казалось бы, в 1990-е годы, когда СССР рухнул, произошло стремительное обрушение в рынок, в том числе и культуры. Я считаю это обрушение главным событием истории российской культуры. Начался странный период расцвета и кризиса одновременно. С одной стороны, культура все меньше и меньше была связана с "большими идеями", нравственным обучением общества – со всем тем, что мы привыкли ассоциировать с культурой XIX века. Я думаю, Солженицын был последним из писателей, кто считал своим долгом поучать нацию. Что придавало ему еще в 1990-е годы несколько комический характер, например, когда он ехал на поезде через всю Россию, чтобы "говорить с людьми". Он еще мыслил себя в таких категориях, как как Лев Толстой: "Не могу молчать" и так далее. Он все еще тешил себя иллюзией, что его слово необходимо жаждущим научения массам. Но после Солженицына вся эта "учительская традиция" закончилась.
Культура в России с тех пор стала странной, финансируемой по преимуществу государством формой рыночного потребления и одновременно способом социальной интеграции определенной прослойки людей – тех, кого мы относим к среднему классу. Культура сегодня – это огромное количество премьер, вернисажей, презентаций, чтений, которые предлагают потребителю способ сделать интересной и насыщенной свою повседневность. Моя приятельница приехала в Нью-Йорк из Израиля и говорит: "Знаешь, в Израиле такая провинциальная культурная жизнь… Всего три театра, всего три стоящие премьеры в год, что это вообще? Вот в Москве, в Питере – такая интенсивность, столько всего происходит". Я спрашиваю ее: "А что-то именно важное там происходит?" Она отвечает: "Ну какая разница – что? Просто там на тебя все время обрушиваются какие-то впечатления, ты все время куда-то бежишь, и жизнь невероятно интенсивная". Это и есть то, что я отчасти описал в "Парке культуры" – беготня по культурным мероприятиям, погоня за интенсивностью. Люди устремляются на выставку, а потом бегут в модный ресторан… И не могут три дня прожить без выставки или премьеры.
– Что же принципиально изменилось сегодня?
– Культура распалась на российскую – и ту, что оказалась в диаспоре. В диаспоре круглосуточной тусовки больше нет. Нет этой интенсивности. С отъездом большой группы потребителей и создателей и их рассеянием эта тусовочная культура исчезает. И вдруг обнаруживается реальная ценность того культурного продукта, который производился когда-то и производится сейчас. Реальная ценность того или иного автора – которая оказывается, как правило, не очень впечатляющей. Заметьте: авторы, которые эмигрируют или оказываются в изгнании, пишут те же книги, хорошие или плохие, создают те же картины, и так далее – но нет больше этого социально-интегративного гула, эха, который и создавался благодаря тусовке. Благодаря наличию того самого среднего слоя, который сам был обеспечен и мог покупать продукты культуры. При этом в России эта тусовочная активность почти не ослабла. Там все время что-то происходит. И денег на это хватает.
Покупательская способность тусовки не гарантирует качества культуры – и даже не отражает его. Каким тиражом у нас обычно издается поэтический сборник? 100 экземпляров. У поэта еще 5-6 презентаций проходит, где он на каждой продаст, допустим, 5-10 книг. А оставшуюся часть тиража часто покупает автор, и сам же раздаривает. Опять же: когда посетитель приобретет книгу на презентации – он покупает ее не для того, чтобы читать. Это все равно как в Нью-Йорке покупать сувенирную кружку "Я люблю Нью-Йорк". Ты не будешь пить из нее; так же и книжку эту ты не будешь читать: ты ставишь ее на полку в качестве сувенира. Никто этих книг в итоге не читает – кроме, может быть, двух-трех специалистов или поклонников. Таким образом книга не становится генератором литературы. Она является генератором социальной жизни, интеграции людей в социум. Вот они встретились, пообщались, посидели в кафе – вот это и есть сегодня главная функция культуры в столицах, по крайней мере.
В России, в отличие от диаспоры, именно такое функционирование культуры сегодня играет важнейшую роль – оно создает иллюзию нормальности жизни. Конечно, государство тужится произвести "патриотическую" лабуду. Но подобные фильмы или спектакли не оказывают почти никакого воздействия на умы. Парадоксально: они, напротив, напоминают о том, что идет война и все неблагополучно. Это осознал еще Геббельс, который считал, что кинематограф должен исключительно сосредоточиться на развлечении и отвлечении, и наладил производство псевдоголливудских мюзиклов. Сегодня бесконечный поток российских киносказок выполняет ту же роль, следуя той же голливудской модели. Идеальный зритель для них не столько патриотический, сколько инфантильный. Такая культура помогает людям не видеть войну, отворачиваться от нее. Происходит тотальный кошмар, а у нас – смотри, как интересно: тут фестиваль, а тут – презентация, а тут феерия, а тут сказка. А денег при этом полно. Вот, например, я знаю, сейчас затеяна какая-то гигантская постановка "Пиковой дамы" в Петербурге, и там одних статистов сотни человек. Я подумал – зачем в "Пиковой даме" сотни статистов? А мне говорят – это такое видение режиссера, огромная постановка. Причем она рассчитана всего на две-три премьеры. Но это же огромные деньги, зачем ради нескольких представлений шить сотни костюмов, например? А мне отвечают: "Зато все об этом будут говорить". А денег при этом – навалом. Потому что инфляция, и пока деньги не обесценились, их нужно полностью потратить.
И это производство культуры сегодня не невинно, поскольку соответствует задачам государства: создает ощущение нормальности.
Производство культуры сегодня не невинно, поскольку соответствует задачам государства: создает ощущение нормальности
Меня часто спрашивают: почему русская культура, со всем ее потребительским размахом и установкой на нормализацию, не мобилизовала при этом никого против войны? Потому что культура нынешняя, какой она была придумана, призвана работать на обеспечение этой самой нормальности – в этом же заинтересовано и государство. Все эти бесконечные тусовки, чтения, премьеры, вернисажи и так далее – лучший способ заглушить весь ужас, который происходит в Украине. И это все связано с деньгами, как и сама война, которая для России есть сегодня одна сплошная денежная масса и больше ничего. Армия российская практически приватизирована и стала армией наемников, которым платят несусветные деньги. Покупают даже не услуги солдат, а их жизнь. Подписал контракт, и твоя жизнь продана покупателю. С одной стороны, идет приватная война – государственно-приватная; а с другой – государственно-приватное разворачивание иллюзии нормальности с помощью культуры. Эти вещи, с моей точки зрения, очень связаны между собой. Ожидать от такой культуры пробуждения сознания сегодня совершенно не приходится. Наоборот, я бы сказал, что это заглушение сознания всеми возможными способами.
"Зафиксировать себя возле Брейгеля"
– Вы хотите сказать, что мы все еще по инерции убеждены, что культура способна взывать к высшим чувствам (в нашем случае – выступать против войны). Однако этой способности у нее давно уже нет?
– Я думаю, да – культура перестала быть той, какой она была во времена нашей молодости. Знаете, в юные годы я ездил в Тарту, где тогда была среда, я бы сказал, жрецов литературы. Они просто молились на нее, выражались в невероятно возвышенных выражениях: Мы должны не дать угаснуть этому пламени… мы должны нести этот огонь… мы должны комментировать каждый текст, чтобы обнаруживать там новые глубины…" и так далее. То есть это было служение культуре как фетишу. Сегодня такая позиция мне кажется анахронизмом. Некоторые мои старые знакомые до сих пор говорят с придыханием о культуре. Когда они говорят, например, о Сикстинской капелле, у них слезы на глазах выступают. Один из моих ровесников Александр Сокуров до сих пор переполнен трепетом, когда говорит о Лувре, Эрмитаже… Мне это кажется анахронизмом по отношению к сегодняшнему бытованию культуры. Потому что Сикстинская капелла, как и все остальное, давно превратилась в объект туризма. А туризм – это большая индустрия, которая вырабатывает огромное количество денег. Туристы толпами идут в эти музеи, к этим памятникам архитектуры – совершенно не зная, собственно, зачем.
Я делал одну выставку перед началом войны в музее Пушкина. И наблюдал за тем, как люди смотрят на картины. За их траекторией движения. Они обычно идут по этим залам, где-то остановятся, постоят недолго – потом снова куда-то идут. Ты видишь, что они, собственно, ничего не видят. Тогдашнее руководство музея пригласило одного французского дизайнера – именно для того, чтобы нарушить это прямолинейное, или хаотическое циркулирование посетителей по залам. Они попытались вбить в залы какие-то призмы, создать какие-то закоулки. Задумка была в том, чтобы люди как бы наталкивались на очередную картину – и могли, наконец, остановиться, и перевести дух, во всех смыслах…
– …Чтобы натолкнуть их на мысль.
– Да. И это вызвало у посетителей ярость – потому что такая конфигурация нарушала их комфортное движение, скольжение от картины к картине. Люди, которые толпами ходят к "Моне Лизе", видят изображение, которое видели до этого миллион раз во всех возможных репродукциях. Теперь они стоят в толпе и никакого нового опыта из этого не извлекают. Но они должны отметиться, и потом купить в магазине Лувра сувенир. Меня как-то привезли к Тадж-Махалу. Я видел бесконечный поток туристов, которых привозят ровно на ту площадку, с которой сделаны все фотографии Тадж-Махала. И потом они садятся в автобус и едут шесть часов обратно. И я все время спрашивал себя: зачем туристы сюда приезжают? После мучительных, сложных передвижений – туда и потом обратно? Столько денег на это потрачено. Но что они, в сущности, увидели на этой площадке? Что нового они узнали? Однако это место также стало частью всеобщего экономического движения. Экономические потоки – это очень важная вещь. Они не позволяют сосредоточиться на смыслах – они их заглушают. Когда я читаю про наших соотечественников, которые специально поехали на выставку Брейгеля в Вену – я спрашиваю себя: какая в этом необходимость? Они что - специалисты по Брейгелю? Они не могут жить без Брейгеля? Зачем?
– Ну, извините, Брейгель – это, допустим, такой позднесоветский интеллигентский фетиш…
– Ну да, но что они извлекли для себя, поехав туда и увидев это живьем? Потратив столько, опять же, денег, усилий и времени? Я знаю множество людей, которые маниакально ходят на выставки. Если в течение трех-дней нет новой выставки – они буквально заболевают. Они делают фотографии с этой выставки и постят их в фейсбуке. Все эти люди, вполне симпатичные, однако, как мне кажется, не улавливают, что функционирование этих, действительно значительных произведений искусства сегодня стало совершенно другим. Эти выставки, эти картины инкорпорированы сегодня в совершенно иные социально-экономические процессы.
Если в течение трех-дней нет новой выставки – они буквально заболевают
– Из ваших слов можно сделать вывод: культура сейчас работает как механизм нормализации, релаксации – плюс "зафиксировать себя возле Брейгеля". То есть культура работает исключительно на потребление – что путинскому режиму вполне выгодно. А интеллигенция, которая эмигрировала, не способна, в свою очередь, всколыхнуть людей – словом, кадром, жестом и так далее.
– Это так. Но тут еще один важный аспект, вне темы потребления. А именно – наши размышления о социуме в духе бинарных оппозиций. Ибо наше любимое противопоставление – массы и интеллигенция – типичный пример такой бинарности мышления. Вот есть две противоположности – они с чем-то там взаимодействуют и чему-то противостоят, с чем-то сражаются или, наоборот, мирятся… Борьба и единство противоположностей. Это – чисто бинарная, двоичная система. Кстати, эта система семиотического противопоставления в ситуации войны кажется опять актуальной. Бинарность – это, собственно, основа любой политики. Как говорил еще Карл Шмитт, политика невозможна без врага. Если есть враг, которому ты противостоишь, значит, ты хороший, а он – плохой. Вся американская партийная система построена на этом принципе двоичности. Есть республиканцы, есть демократы. А в тех странах, где нет такой двоичности – она все равно так или иначе воспроизводится. Есть крайне правые, есть крайне левые.
Но суть в том, что в наше время экономических потоков вся эта бесконечная простота двоичных систем больше не работает. Она больше не отражает нынешней реальной сложности мира, общества – современного, постиндустриального. Потому что финансовые потоки абсолютно не двоичны. Там нет этих простых оппозиций – свой-чужой, враг-друг… Бесконечное обращение финансовых капиталов усложнило мир – и вывело его за пределы двоичных систем. С помощью этих систем мир больше не описывается. Мир развивается по небинарным сценариям. Экономическая основа становится все более и более доминантной, хотя ей еще противостоят архаизирующие страны. Война всем возвращает это ощущение простоты, бинарности. Но это лишь временная иллюзия. На самом деле все определяют бесконечные потоки: денег, товаров, туристов, мигрантов. Все это – экономика потоков, не вписывающаяся в классическую политику. Она и определяет и смыслы, и поведение культуры. Круговорот бесконечных тусовок, которые не должны производить смысл, синонимичны этой экономике потоков.
Сегодняшняя культура производит смыслы только в момент обращения, в момент события. Вот началась война, и снова поднимает голову двоичность. И это не просто иллюзия. Люди понимают, что они оказались под ударом чудовищного зла, которому нет оправдания. Но для литературы это и облегчение. Огромное количество поэтов написали патетические стихи о том, как ужасна война. И с ними, конечно, нельзя не согласиться. Но цена этих стихов редко высокая. Заметно, как писатели испытывают даже некоторое тайное облегчение – от того, что мир упростился. Но упрощенные семиотические модели больше не описывают мир. Тут надо сказать, что искусство прошлого, которое мы называем "великим", не занималось упрощением и было необыкновенно сложным, и в этой сложности отражало сложность мира. Но с тех пор, как оно заместилось искусством потребления, сложность начала увядать. Отсюда в изобразительном искусстве огромное производство разных вариантов потребительского дизайна, а в менее коммерческой зоне – примитивная милитантность. Но и она позволяет развернуться потребительским потокам.
Культура без "человечинки"
– Война – то самое событие, которое (по Делезу) переворачивает не только настоящее, но и прошлое. Нет ли у вас ощущения, что вся работа, например культуры шестидесятничества (Окуджава, "Современник", "Новый мир") отменена сегодня войной? Впустую оказалось поступательное, как казалось – в течение 40- 50 лет! – движение к гуманизму, к универсальным ценностям.
– Задним числом культура шестидесятничества воспринимается как нечто цельное. Но это тоже искажение, впрочем, вполне объяснимое. Когда произошел крах сталинизма и началась оттепель, появился целый ряд совершенно новых произведений – даже о войне: "Баллада о солдате", "Сорок первый" – открылся мир каких-то личных чувств. Но эта новая чувствительность того времени была лишь одним из компонентов общей советской культуры. С одной стороны, вот эта "человечинка" (вы упомянули Окуджаву, и это хороший в данном случае пример задушевности). А с другой стороны – все та же жестяная идеология. И роль этой "человечинки" была в том, чтобы приводить идеологию в какую-то приемлемую плоскость. Скрашивать ее, но никак не отменять. И когда мы сегодня думаем об этой "человечинке", у нас возникает какое-то двойственное, странное чувство. С одной стороны, конечно, Окуджава или Визбор – это гораздо лучше, чем Эдуард Хиль или ансамбль Александрова. Но при этом трудно избавиться от ощущения какой-то фальшивой ноты во всей этой обращенности к человеку, которая в той или иной степени пронизывала всю оттепель…
– Вы хотите сказать, что вся эта душевность является побочным ответвлением тоталитарной культуры? У "душевности" нет самостоятельной функции – а только компенсаторная?
– Судите сами: с переходом к новому времени, со вполне закономерным развитием информационного постиндустриального общества – эта душевность, эта способность к сопереживанию как правило исчезает в культуре – не только в России, но и в большом мире. Взять хотя бы кино – фильмы о человеческих отношениях, о теплых или же вообще каких бы то ни было чувствах приходят сегодня только из относительно немодерных стран. Например, Иран сегодня производит такие человечные фильмы. Румыния производила очень человечные фильмы. А Франция, Германия – никак не могут произвести нечто подобное. Никакой немецкий, французский или английский режиссер не может снять душевное кино. Потому что мир отчуждения, в котором мы сегодня существуем, мир рынка, потребительства и так далее – всю душевность совершенно искоренил. Я часто думаю о том, что деньги – это невероятно эффективный способ уничтожения человеческих отношений. Не только в культуре. Возьмем простейшую, бытовую сферу. Еще недавно в Париже можно было прийти в какое-нибудь кафе, и услышать: "Месье, здравствуйте, как ваша жена?" Или вот ты заходил в лавку зеленщика, и продавец говорил: "Я так рад вас видеть, ваша нога больше не болит?" и так далее. А теперь я могу 20 лет ходить в один и тот же супермаркет в Нью-Йорке и давать деньги одному и тому же кассиру – и за 20 лет лицо этого кассира я так и не запомню. У нас с ним нет никаких отношений. Отношения наши кончаются в тот момент, когда я ему заплатил. В том же Париже еще недавно можно было сказать кассиру: "Вы знаете, я забыл дома кошелек" – и продавец тебе отвечал: "Ну, завтра отдадите, не волнуйтесь". Теперь эти человеческие отношения выхолащиваются.
Чем больше становится потребления, тем меньше возможности для "человечинки"
Чем больше становится потребления, тем меньше возможности для "человечинки". И эти процессы происходят помимо нас. Человеческие отношения постоянно мутируют, трансформируются, мы этого не замечаем. Нам кажется, что вот был магазин, а стал супермаркет, невелика разница. А разница в том, что раньше магазин был местом человеческих отношений – а теперь это место отчуждения. Я недавно в Нью-Йорке увидел поразившую меня вещь: в "Старбаксе" убрали большинство столиков – хотя это кафе. Но кафе, чья функция свелась к продаже бумажного стаканчика с кофе. Потенциальный потребитель не может сегодня просто так идти по улице – он по дороге должен что-то купить, это входит в ритуал его хождения. Или вот – ты садишься в кафе и видишь, что у столика всего один стул. Он предназначен для одного человека – с компьютером или телефоном, и это место совершенно не предполагает, что он будет с кем-то еще разговаривать. В прежние годы в кафе было привычной картиной видеть пары за столиками, которые разговаривали, целовались или даже ссорились. Но благодаря им кафе было человеческим местом. А теперь человечность размывается, все разъединяется. Как часто мы видим супружескую пару в метро, когда муж и жена – каждый смотрит в свой телефон, даже не поворачиваясь друг к другу. И у них нет потребности сказать друг другу хоть одно слово.
Ну и, конечно, сделать фильмы или песни о "человечинке", о душевности в таком обществе становится совершенно невозможно. Я думаю, что российское общество с невероятной скоростью в прошедшие 30 лет мчалось по рельсам потребления. Хотя оно еще сохраняет, конечно, архаические какие-то элементы. Оно еще не полностью вышло из совка. Но, в принципе это все постепенно выветривается. Я думаю, что этот общий процесс проникает и в культуру. И затрагивает ее в своих специфических конфигурациях.
Между виной и насмешкой
– Если мы воспользуемся старыми категориями культуры, основной вопрос, который она должна была бы ставить сегодня – вопрос о вине и о покаянии. За те преступления, которые совершают кремлёвский режим. И во что вовлечены уже миллионы россиян. Этот важнейший вопрос, в духе Ясперса – вначале, в 2022 году был поднят, но сейчас заглушён, как ни странно, нашим старым знакомым – сарказмом, едкой насмешкой. Почему это происходит, по-вашему? Пусть даже этот вопрос о вине сформулирован неловко, пусть даже в неприемлемой, грубой форме, но все равно: реакция общества сосредоточена не на сути, не на предмете обсуждения – а на персоне, фигуре говорящего, которого принято по-шукшински "срезать".
– Я думаю, что вообще постановка таких вопросов – о вине, и особенно о покаянии, – это совершенно религиозная история, и она становится очень проблематичной сегодня. Этому есть разные причины – но все в итоге сводится к тому, что нет адекватного языка для разговора об этом. Семиотика не работает, или работает очень плохо. Отсутствие внятного языка описания действительности приводит к парадоксальной ситуации: язык, мышление не обладают способностью к небинарному восприятию мира. В то время как мир усложнился невероятно – благодаря денежным потокам, благодаря тем же социальным сетям. И люди сегодня организуются, сближаются по другим, каким-то совершенно "непартийным" принципам. Всегда есть множество исключений, которые не подпадают под простые термины. А сказать "все виноваты" – даже в отношении российского общества – это невероятно упрощенческая позиция. Я тут много говорил о том, что русская культура de facto обслуживает интересы государства, создавая эффект нормальности. Но я при этом никогда не осмелился бы назвать тех, кто остался в России и производит эту потребительскую культуру, виноватыми. Как нельзя назвать виноватыми и тех, кто использует деньги и тем самым разрушает человеческие отношения. Всеобщая вина выгодна тем, кто воистину преступен, так как размывает его ответственность в массе "виноватых".
Но такая проблема – с отсутствием адекватного языка – возникает не впервые. В 1927 году французский публицист Жюльен Бенда написал книгу "Предательство интеллектуалов" – о том, что интеллектуалы изменили своему назначению — утратили беспристрастность, прониклись "политическими страстями". Потом в 1950-е французский философ Раймон Арон написал "Опиум интеллектуалов" (1955) – о том, что интеллектуалы вместо того, чтобы объяснять, пытаются упрощать, склоняясь к оценкам, терминологии коммунистической партии. Сейчас Нил Фергюсон в своем эссе “Измена интеллектуалов” пишет о том, что американские университеты вместо того, чтобы анализировать, все упрощают, сводят к принципам пост-колониализма, гендера и так далее. То есть вот уже сто лет интеллектуалы говорят об опасности бесконечного упрощения – об утраченной способности мыслить сложно. В ситуации войны тем более требуется другой языковой аппарат, другие мыслительные подходы.
Кстати, я считаю, что Делез в этом случае очень важен – потому что он как раз не мыслит привычными оппозициями. Делез недаром опирался на Спинозу, который абсолютно не бинарный мыслитель, у него там все время какие-то модусы и атрибуты, которые обладают разными градусами экспрессивности… Словом, это попытка уйти от мышления в упрощенных категориях. А когда нет подходящего языка – нет и способности к анализу. И в этой катастрофической ситуации единственная возможность мыслить небинарно, вырваться из этого замкнутого круга – это, как ни странно, высмеивание и пародирование таких упрощенных языковых моделей. То же советское искусство на излете не смогло породить ничего, кроме иронии и пересмешничества – ничего, кроме соц-арта, концептуализма, которые и были построены на бесконечном высмеивании советских моделей. Которые соц-арт сам же и эксплуатировал, и доводил до абсурда. Ничего другого, собственно, интересного российское искусство почти не создало. Пародирование – самый простой способ высмеивать склеротические дискурсы, которые производятся вокруг. С одной стороны, это проявление как бы ума, потому что люди понимают несостоятельность простых бинарностей. А с другой – проявление беспомощности, потому что мы не знаем, как эту реальность оценить адекватно.
– У меня ощущение, что за всеми этими фейсбучными спорами – а они, собственно, и есть эрзац российского гражданского общества, теперь еще и разорванного на части, – стоит попытка нащупать хотя бы какую-то моральную правоту. А ее нет – ни у кого. Все находятся в плохой позиции. Мы можем зафиксировать, сформулировать это как общее моральная фиаско. Как с этим жить, и вообще – это проблема, с вашей точки зрения?
– Я не согласен с вашей постановкой вопроса. Я считаю, что в принципе чувство моральной правоты есть у всех людей, которые сегодня выступают против войны, и у них нет никаких сомнений на этот счет. И никаких, в общем, двусмысленностей. Другое дело – как это делается, как это выражается. Выражается это до крайности убого. Я тут как-то пошел на антивоенную демонстрацию к российскому консульству в Нью-Йорке. Нас там собралось пара сотен человек. Было воскресенье, и консульство было закрыто, и мы как-то нелепо походили вокруг пустого здания; я постоял, послушал какие-то речевки. В какой-то момент я не выдержал и решил уйти. Чашу моего терпения переполнило, когда один из лидеров протеста начал кричать "Путин – пид…с". Я понял, что я не могу тут находиться, что я не хочу в этом участвовать, потому что уровень неадекватности всего происходящего зашкаливал. Причем внутренне я был совершенно солидарен с их политической позицией – но то, как они это выражают, абсолютно неприемлемо. Я считаю, опять же, что это проблема языка, неспособного осмыслить и выразить происходящее. Только речевки, тупые и пошлые.
Чашу моего терпения переполнило, когда один из лидеров протеста начал кричать "Путин – пид…с"
– Задача интеллектуала, стало быть, – сформулировать этот самый новый язык?
– Я думаю, да, но это очень сложная задача. Мы находимся в моменте крушения всего, мы видим кризис западных демократий и всех партийных систем. Это было очевидно и во время выборов в США, и в других странах – в Германии, во Франции. Это заметно и по кризису власти в Израиле. В любом случае должен быть выработан какой-то новый механизм демократии. Сегодня множество людей, которые ходили голосовать за того или иного кандидата в Америке, в Европе, говорят так: "Я голосовал не потому, что этот кандидат мне нравится не потому, что он представляет меня не потому, что я демократ или республиканец. Но он все-таки лучше, чем тот другой". Я голосую не потому, что кто-то меня представляет: политический класс больше уже никого не представляет, это бюрократы, которые только сами себя представляют. Это – проявление глубочайшего кризиса демократии. Когда общество вновь выбирает Трампа, который известен своей аморальностью, в президенты – это просто, с моей точки зрения, жест разрушения демократии. "Пусть придёт этот человек и всё наконец-то порушит к чёртовой матери, то, что давно не работает".
Найти новый язык в этот момент, когда всё перестаёт работать, когда все клише политического дискурса перестают функционировать, очень сложно. Количество пустых слов и бреда, которые произносили с обеих сторон во время избирательной компании в Америке, было зашкаливающим. Это значит, что нет никакого нового политического языка и у американской демократии. Как и у французской: если вы послушаете речь Макрона, вы убедитесь в этом. Но и путинский дискурс с его "неонацизмом" и "угрозой НАТО", бессмысленным апеллированием к суверенности, абсолютно лишен содержания. Никто не может понять причин и целей войны. И это мычание не может ничего объяснить. Поиск нового языка – огромная задача, очень сложная. Почему? Потому что язык антиномичен по своему существу. Он весь построен на бинарностях. А нам нужно научиться мыслить в категориях более сложных. Но так уж мы были созданы Господом Богом и в процессе эволюции – наш мозг привык работать именно в бинарном режиме. И выйти из него не так-то просто. Думаю, в конце концов какие-то новые формы в организации социума обязательно должны появиться – хотя, может быть, я излишне оптимистичен.